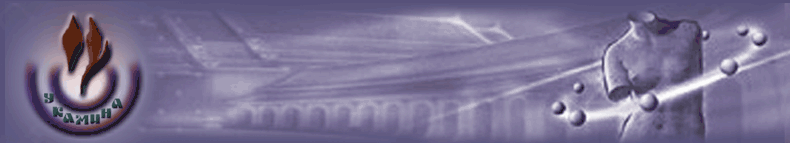
|
Григорий Брейгин
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Я очень давно хотел рассказать о моем отце. Он так мало успел пожить, и сегодня от него так мало осталось на этой земле. Почти ничего, кроме моей памяти. До войны мы жили на Украине, в маленьком городке Глухове, где чуть ли не половину населения составляли евреи. Мой дед Яков был известным в городе пекарем. Когда он приходил домой, от него всегда вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Мама работала в школе учительницей математики. Наш домик стоял на краю города, за ним начинался заливной луг,
сбегавший к тихой речушке, а дальше лежали поля подсолнухов и
конопли. Не той конопли, из которой нынче делают марихуану, а
другой, которая шла на волокно для мешков и канатов.
В последнее предвоенное лето мне пошел седьмой год. Я уже многое понимал, и хотя не представлял всех размеров военной беды, ощущение самой беды было очень четким. Наши родственники и знакомые засобирались в дорогу. Вошло в обиход новое слово "эвакуация". Как раз в эти дни я, пожалуй, впервые ощутил свое "еврейство". Нашими соседями, от которых нас отделял только деревянный забор, была украинская семья, и я дружил с их младшим, моим ровесником по имени Митька. Мы вместе играли, вместе убегали на речку, где в медленной воде можно было майкой ловить пескарей. Именно от Митьки я услышал: "Скоро придут немцы, всех жидов побьем, а добро позабираем". Он так и сказал: "побьем", а не "побьют". Но, правда, добавил, что мы "хорошие жиды" и, мабудь, нас не тронут. Так на седьмом году жизни я узнал, что меня, мою маму, сестренку Соню - всех нас - могут убить за то, что мы евреи. Десять лет спустя, через пять лет после войны, я приехал в Глухов, чтобы продать дом, который мы тогда бросили. Отца уже давно не было в живых, мать разбил паралич… Наш дом был цел, в нем жили чужие люди, они и купили у меня за смешные деньги наше бывшее семейное гнездо. Я спросил у них про соседей. Они рассказали, что митькин отец при немцах стал полицаем, участвовал в расстрелах евреев. Их расстреливали в веселой березовой роще, где до войны проходили маевки. У меня сохранилась фотография: молодые отец и мама с группой друзей расположились на траве среди берез и смеются в объектив. Почти всех евреев Глухова, кто не успел уехать, немцы убили - всех
до единого: женщин, стариков, младенцев... Они лежат в веселой
березовой роще, в одной яме…
У меня сохранилась отцовская трудовая книжка. Последняя запись в ней датирована августом 1941 года: "Уволен в связи с мобилизацией в действующую армию". Сохранился и его паспорт. Новенький, полученный за полтора месяца до ухода на фронт. Паспорт был действителен до июня 1946 года, а пережил своего владельца на шесть десятилетий. Много лет спустя, разбирая после смерти мамы ее бумаги, я обнаружил отцовские письма с фронта. В одном из них, адресованном родственнице, у которой мы остановились в эвакуации, я нашел строки о нашем конном путешествии: "Я не знаю, что и думать о Фире и детях. Ведь они уехали на лошадях. Ни Фира, ни даже отец ее не умеют управлять лошадьми и ухаживать за ними… За три месяца нашей разлуки я так и не узнал ничего об их судьбе. Живы ли они, или их не стало от бомбежек фашистских стервятников, а может, их в пути застало осеннее ненастье, зимняя стужа…" Мы были живы, нас не разбомбили, и с лошадьми научились управляться. Иначе как бы мы добрались до станции Щигры? Эту станцию я запомнил, наверно, еще и потому, что там кончилась наша цыганская жизнь. Дед сдал коней какому-то военному начальству, а за это нам разрешили ехать дальше товарным эшелоном. Там были такие высокие вагоны без крыши, в каких по сей день перевозят сыпучие грузы. Тогда они по самые борта были засыпаны пшеницей и укрыты брезентом. Я еще подумал, что, может быть, это как раз то зерно, которое отправлял папа. Мы забрались под брезент, зарылись в хлеб, и нам было мягко и уютно. И еще можно было жевать пшеничные зерна, когда хотелось есть. А в конце нашего путешествия, глубокой осенью, когда Урал уже пугнул нас ранними морозами, пшеница, разогревшаяся от влаги, спасала от холода. Вот уж воистину спасибо хлебу, истинную цену которого мы узнали очень скоро, когда он каждую ночь вторгался в наши голодные сны... Остановились мы в Магнитогорске. Нам дали комнатку в бараке. Правда,
дали не сразу, а, как я узнал много лет спустя - после резкого письма, которое написал комиссар полка, где служил отец, в Магнитогорский военкомат. Письмо я нашел в маминых бумагах после ее смерти.
Я действительно провалялся в больнице всю зиму: после скарлатины была корь, потом осложнение на почки, потом аппендицит… Когда меня выписали, то в мои восемь лет пришлось заново учиться ходить… К тому времени у нас уже была своя комнатка в бараке - прямо под высокой каменной стеной металлургического комбината - той самой знаменитой Магнитки, детища первых пятилеток. Нам, пацанам, это нравилось: на комбинат с фронта свозили разный военный металлолом, среди него можно было найти почти целую винтовку или на худой конец плоский немецкий штык, пробитую пулей каску, а то и пистолет. Всё это прекрасно годилось для игр, а играли мы всегда в одну и ту же игру, только в одну, имя которой - ВОЙНА. На следующий год я пошел в школу. Мне там сразу понравилось: в первом классе у нас уже был урок военного дела. Мы изучали винтовку, и я до сих пор помню, как называются части затвора: стебель, гребень и рукоятка. Изучали мы и устройство ручной гранаты - не "лимонки", а другой, похожей на бутылку, с деревянной ручкой. Но самое главное, за что я любил школу - там нас кормили. На большой перемене нас вели в столовую и давали суп с куском хлеба, жидкую кашу и загадочный напиток из соевой муки с сахарином под названием "суфле". Некоторым детям давали еще и талоны в городскую столовую. Они полагались тем, чьи отцы погибли на фронте. Очень скоро и я получил печальное право на талоны. Незадолго до конца учебного года пришла "похоронка" на отца. Он был убит еще в феврале, но казенная бумага шла долго... Я уже говорил, что отец работал агрономом. На мой взгляд это самая мирная на свете профессия, и отцовский характер вполне ей соответствовал: насколько я помню, его очень трудно было вывести из себя. Он был очень добродушным человеком, как большинство сильных людей, а физически он был необыкновенно сильным. Среднего роста, коренастый и высоколобый, (ему не было и тридцати, а интеллигентная лысина уже занимала половину головы), отец не производил богатырского впечатления. Но я запомнил одно происшествие: к нам во двор вломился пьяный мужик, который матерился и выкрикивал какие-то угрозы. Отец в своей обычной манере попытался спокойно его урезонить, но мужик не унимался. Тогда отец как-то быстро и ловко схватил его так, что руки пьяницы оказались прижатыми к бокам, потом поднял его над головой и резко поставил, словно вбил в землю. Мужик сложился, как тряпичная кукла, а отец вынес его на улицу, аккуратно положил на землю и закрыл калитку. Незадолго до войны отец проходил армейские сборы в артиллерийской части и получил звание младшего лейтенанта. Осенью сорок первого их артполк был переброшен под Харьков. Зимой там завязались тяжелые бои и в этой чудовищной мясорубке перемолото было несколько дивизий. Лейтенант Брейгин, командир батареи, принял свой последний бой в селе Алексеевка, на подступах к Харькову. Я думаю, что и он, и ребята его батареи изначально были смертниками и знали об этом. Их пушечки работали только на прямой наводке, работали против танков. Шансов выжить у них не было, была только цена смерти: число подбитой брони… Отец ничем не успел прославиться, не заработал ни ордена, ни медали. Он был просто одним из миллионов пахарей войны. Перед призывом в армию я съездил в Харьков, пытался найти отцовскую могилу, но не нашел: Алексеевка вошла в черту города, на месте боев поднялись многоэтажные дома, и не осталось на земле никакого следа ... За месяц до последнего боя моему отцу исполнилось тридцать лет. Я очень долго не мог поверить, что его уже нет в живых. Во мне все время теплилась надежда, что произошла ошибка, что "похоронка" еще ничего не значит, и отец просто был ранен, потом спасен, может быть - попал к партизанам… Разговоры маминых подруг подогревали эту надежду. Теперь я понимаю, что измученные войной женщины хотели чуда, и время от времени где-то - не с ними, а с кем-то другим - такие чудеса происходили. Люди тоже получили "похоронку", а солдат пришел домой - израненный, но живой. Уже после войны, в Таганроге, куда мы приехали из эвакуации, я пережил настоящее потрясение. Я шел по улице и вдруг увидел, что навстречу идет отец - в офицерской форме, молодой и веселый. Не помню, что со мной стало, как я кинулся к нему… Это был не отец. Это был вернувшийся с войны его младший брат, дядя Миша. Они были невероятно похожи друг на друга… Мне удивительно запал в память первый день мира. Самый первый день. Это потом, спустя годы, появилась песня о празднике со слезами на глазах. А девятого мая сорок пятого года я видел эти слезы. Цветущая сирень затопила дворы и палисадники, а на улицы выплеснулось настоящее человеческое море. Прямо посреди улицы были накрыты столы, и каждая хозяйка несла из дому все, что было. Запомнилась немолодая женщина с огромной бутылью самогона, которая наливала стопку каждому встречному и, плача, просила помянуть то ли мужа, то ли сына. Над крышами плыл колокольный звон - это в маленькой церкви по соседству с портом служили благодарственный молебен. Между столами на самодельной тележке с подшипниками вместо колес разъезжал безногий инвалид со стаканом на коленях. При каждом тосте он тянулся стаканом к столу, пил и странно плакал - беззвучно и с застывшим лицом. Потом мужики подняли его и посадили на табурет. Он ел все с тем же застывшим лицом, и медали его тихо позвякивали. Я сейчас сам удивляюсь, насколько живы в памяти эти картины - словно я смотрю цветное кино. Вероятно это оттого, что второго такого дня в моей жизни никогда больше не было – дня, когда окончилась война. Но оказалось, что большая война имеет страшное свойство - настигать свои жертвы, словно бомба замедленного действия. Маму она догнала в 1949-м. Наверно, выставила ей счет за все сразу: за голод, холод, военные тревоги, отцовскую похоронку… Однажды поутру мы с Соней обнаружили, что мама лежит без сознания. Приехала "скорая", набежали соседи. Врач сказал, что это кровоизлияние в мозг. Мать увезли в больницу, потянулись долгие дни ожидания. Мы боялись говорить об этом, но каждый думал: выживет - не выживет... Мама выжила, но ее парализовало, и отнялась речь. Ей было всего тридцать пять. С фотографий тех лет смотрит черноволосая красавица с бархатными глазами и нежным овалом лица. Она всегда выглядела моложе своих лет и рядом с послевоенными ученицами-переростками казалась их сверстницей. Но за первый год болезни она состарилась на целую жизнь. Я написал "первый год", потому что никто не мог предположить, что нашей маме предстоит так прожить весь свой век. Где-то через год к ней вернулась речь, но очень невнятная, а правая рука и правая нога так и остались навсегда парализованными. Она так и прожила всю жизнь солдатской вдовой. Сохранила все отцовские письма с фронта: даже удивительно, как много он успел ей написать за те шесть месяцев, что были отмерены ему на войне. Наверно, они были бы счастливой парой, и я вполне мог бы погулять на их золотой свадьбе, и отец порадовался бы своим четверым правнукам… Если бы не та проклятая война. Сейчас я живу в стране, которую зовут так же, как звали моего отца. Удивительное дело: я старше отца без малого на сорок лет, все тридцатилетние мужчины с высоты моего нынешнего возраста кажутся мне пацанами. Но на отца я и сегодня смотрю снизу вверх, словно я все еще тот - маленький, довоенный мальчик, который, прощаясь, уткнулся в пряжку командирского ремня и крепко-крепко держится обеими руками за большую и теплую отцовскую ладонь… |
|
Скачать
Очень просим Вас высказать свое мнение о данной работе, или, по меньшей мере, выставить свою оценку! Оценить: Закрыть |