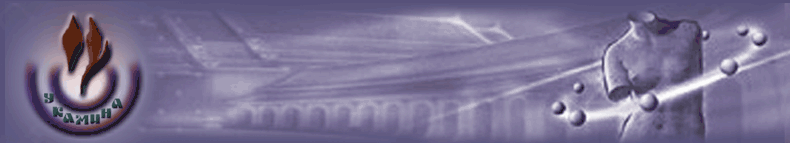|
Андрей Гончаров
СМЕРТЬ ВОЗМОЖНА
(Из цикла «Угробинск и его обитатели»)
1.
Николай Григорьевич, худощавый мужчина тридцати двух лет, проснулся от громкого стука в дверь. Накануне вечером он много выпил, у него шумело в голове, в странном сне он от кого-то бежал, а в душном гостиничном номере стоял тяжелый запах фальшивых французских духов и недопитого шампанского. Николай Григорьевич пусто и незряче смотрел в потолок.
В дверь опять властно постучали. Чертыхаясь, Николай Григорьевич встал, пошатываясь, с кровати.
- Долго спишь, - буркнула толстая тетка, когда он открыл дверь.
- Что вам нужно?
- Фу, как навонял, - тетка оттолкнула его в сторону и втащила в номер швабру с ведром, - после таких, как ты, ну очень большое удовольствие убирать!
Николай Григорьевич беспомощно смотрел на уборщицу, уже открывавшую окна и продолжавшую свою недовольную тираду. Он сжал руками голову и поплелся в ванную.
В зеркале он увидел себя - небритого, с усталым взглядом серых глаз, со всклоченными волосами и подумал о бесполезности своей жизни и самого себя. Он был уже дважды женат, и было уже двое детей - мальчик от первого брака и девочка от второго. Алименты первой жене, Оле, он не платил - она великодушно отказалась от них, уходя к брюхатому армянскому коммерсанту. "Бедненький мой, - сказала тогда Оля, - не отчаивайся. Ты всегда знал, что я люблю красивую жизнь и много-много денег. Я тебя люблю, но, сам понимаешь, жизнь одна и жить хочется. А ты другую найдешь, поскромнее. И о Гришеньке не беспокойся - он у бабушки в деревне будет жить". И упорхнула. В красивую машину, в красивую жизнь. Позже прислала открытку. Из Италии. Брюхатого коммерсанта она оставила, познакомившись с каким-то менеджером из Неаполя. OMNIA VANITAS! Красивая Оля, красивая жизнь...
Изредка, раз в два месяца, он посылал Грише в деревню большую посылку, в ответ получая торопливое письмо бывшей тещи, упрекавшую его в черствости и скупости, да пару просьб от Гриши, которые он старался выполнять - купить новые элементы конструктора "Lego" или пассажирские вагончики "Pico".
С нынешней своей женой Леной он познакомился случайно четыре года назад, на станции метро "Охотный ряд". Они стояли рядом и ждали поезда. Был час пик, их прижало друг к другу, когда толпа голодного и злого после работы народа втащила их в вагон. У какой-то тетки лопнули пакеты с молоком, и белая масса прощально облила оставшихся на перроне - "Все, что ты хочешь!".
Будущая его жена и Николай Григорьевич стояли рядом, плотно зажатые людской массой. Он касался ее лба подбородком, вдыхая слабый аромат ее духов. Духи были явно не французскими, но очень приятными. Потом он узнал их название - "Дзинтарс". Пытаясь скрыть вдруг возникшее смущение, он брякнул что-то насчет опозданий метро. Лена только молча и скорбно улыбнулась, поправив дужку круглых очков. Как оказалось, выходила она на той же станции метро, что и он - "Проспект Вернадского".
Лена работала в "Ленинке" старшим библиографом, жила с бабушкой в большой и старой квартире с четырехметровыми потолками и особых иллюзий на жизнь не строила. Как удивленно потом отметил Николай Григорьевич, себя блюла, и раздеть себя позволила только в брачную ночь. В свои двадцать восемь Лена оказалась девственницей.
"Чтобы подороже продать", - объяснил ему позже Серега, в миру Сергей Васильевич Адельгейм, коммерческий директор некоего СП по экспорту вторметалла. Серега был его товарищем со студенческих лет. "Ты, Колька, романтик, о себе не думаешь, альтруист несчастный, - разливал водку Серега, - а она думала. Вот и нашла такого, как ты, с длинной шеей, чтобы сесть и надолго".
Это оказалось правдой. Лена оказалась скандальной, ленивой и жадной. Его зарплаты, хоть он и был заместителем начальника проектного бюро при крупном институте, едва хватало на очередные тряпки для нее самой и для их дочери.
- Ты же любишь Машеньку? Правда? - Лена остервенело давила в пепельнице окурок.
- Она твоя дочь, не сомневайся! Кофе хочешь? Нет? Ну, я сама! И не стучи по столу пальцами! Ради Бога, нервный какой нашелся! Я сама от тебя вся дерганая... И потом, я же просила купить мне "Кэмел"! Я не выношу "Стюардессы"! Ты это знаешь и словно испытываешь мое терпение!.. Купи мне "Кэмел" и сам неделю не кури! Что, сложно на такую жертву пойти ради меня?! Так, на чем я остановилась? Ах, да! Машенька твоя дочь, и ты ведь не хочешь, чтобы в детском садике все показывали пальцем на ее дырявые колготочки. Ты понимаешь, а? А штопать я не буду! Слава Богу, или не слава Богу, но у нее есть отец, который обязан ей покупать новые колготочки. И будет покупать, что бы ни случилось!
Лена пила кофе, и все говорила, говорила и говорила. Он же привык только молчать, молчать и молчать.
- И потом, - продолжала она, наливая себе очередную чашку кофе, - ты же мужчина. Слава Богу, еще мужчина! Тебе не позорно сидеть в этом вшивом институте? Посмотри, все делают бизнес. Понимаешь, биз-нес!!!
Лена нажимала на это слово. Оно для нее звучало как заклинание, которое она повторяла днем и ночью перед ним.
- Ну что тебе стоит мороженым поторговать? Вот у Веры муж пять тыщ минимум за день гребет. Минимум - пять тыщ! За день! Нарисуй себе такую суммищу за день! Вдумайся... Ах, да что с тобой говорить. Иди, а то опоздаешь. И не забудь купить сигареты. Хотя бы "Магну". Я не такая стерва, как ты думаешь, способна и на малое...
- Лена, я, - тут всегда начинал свое слово Николай Григорьевич, - инженер, учился в высшем заведении, и я люблю свою работу...
- Ах, перестань, - затыкала уши Лена и трясла головой, - надоело!
Единственным спасением от ее бесконечного визга были командировки. И они были частыми.
- Эй, ты там скоро?! - рявкнула из-за двери уборщица.
Он вытер сырым вафельным полотенцем лицо и открыл дверь.
- Прошу обращаться ко мне на "вы"!
Николай Григорьевич смотрел мимо нее, не желая пачкаться о ее сальный взгляд. Уборщица хмыкнула, пристально всматриваясь в него.
- Гуляли вчера, баб щупали! - и мокрой тряпкой зашлепала по кафельному полу.
- Не ваше дело! - Николай Григорьевич пришел в себя.
- Не мое, - согласилась тетка и повернула к нему красное лицо со сбившимися на потный лоб волосами, - только жену вашу жаль. Все вы, мужики, такие... одинаковые. Сказала бы, какие вы, да с работы выгонят!
Николай Григорьевич сжал челюсти и ушел в комнату. "Черт бы побрал этих старух. Уже заметила кольцо... И как же противно, и выгнать невозможно".
- Мне пора уходить! - раздраженно крикнул он и подошел к окну.
Рамы почернели от старости и сильно продували. Была осень, поздняя осень, что внезапно переходит в снег, белым саваном покрывающим город.
Хлопнула дверь. Николай Григорьевич не оглянулся. "Наконец-то ушла..."
Город был небольшим и тихим, за что Николай Григорьевич его любил. Любил он город еще за нелепое название Угробинск. И еще за какую-то простоту и наивность в людях, которую можно встретить разве что в таких маленьких, вымирающих городках. "Простота хуже воровства", - промелькнуло в голове, - "ну и что, это всего лишь слова".
Его принимали, как всегда, хорошо. Вчера в этом гостиничном номере "обмывали" его приезд. Мефодий Ильич, начальник отдела проектного бюро Угробинска - ярый славянофил и патриот "Русской водки", и маленькая, вертлявая Бэлла, его заместительница, - душа их маленькой компании. Она, как и прежде, притащила с собой гитару и пела грустные романсы:
- Все, что было, все, что ныло,
Все давным-давно уплыло,
Только ты, моя гитара,
Прежним звоном хороша-а!
И гитара согласно кашляла, а затем обиженно стонала, отброшенная Бэллой на кровать.
Дружно звенели стаканы с шампанским, открывалась очередная пачка сигарет, привезенных Николаем Григорьевичем из Москвы. Пока Бэлла суетилась, доставая домашние котлетки из уютных, битых временем кастрюлек, Мефодий Ильич шептал на ухо Николаю Григорьевичу:
- Как Москва-то, к революции готова? Здесь за Отечество! Слышь, Николай Григорьич, не дадим в обиду Русь-матушку! Я сам за монархию. Царь и только царь нас спасет...
Николай Григорьевич согласно кивал, слушал вполуха знакомый треп и вдыхал забытый аромат домашних приготовлений.
- Нам капитализьм не нужен! Вред от него сильный! Русскому мужику - водка, хлеб и баба нужна. И царь-батюшка! А все прочее, поверь мне, Николай Григорьич, я больше тебя прожил, все прочее для нас чепуха!
И сочно хрустел огурцом.
- Ах вы слезы! Ох, вы грезы! - снова разболтанными струнами запела-захрипела гитара.
Бэлла театрально смахнула слезу. Она любила Мефодия уже много лет, и Мефодий Ильич это знал, но между ними берлинской стеной стояла политика. Бэлла обеими руками голосовала за "капитализьм".
- Эх ты кровь!
Да ох ты бровь!
Эх вы зубы!
Эх вы губы!
Ы-ых, проклятая любовь!..
"Проклятая".
Был выходной, суббота, и Николай Григорьевич решил прогуляться. Как всегда, зайти в художественно-исторический музей. Музей был старый и ветхий, как и все музеи в провинциальных городках. Дополнением пустынных залов были недвижные сонные старухи в древних креслах, их бюсты гордо блестели фальшивым золотом медалей сталинской поры. Как и ожидал Николай Григорьевич - в музее никого, кроме него, не было. Пыль кружилась в косых лучах солнца, падающих на старый паркетный, ядовито-желтый от скверной мастики, пол. С тусклых, подернутых дымкой времени и забвения, на Николая Григорьевича равнодушно взирали бояре с апоплексическим румянцем грузных лиц, да едва похожие на исторических персонажей портреты отошедших в прошлое императоров.
Когда Николай Григорьевич рассматривал экспонаты в зале русского иконописного творчества, его слух уловил легкий перестук каблучков в начале длинной анфилады залов. Перестук каблучков усиливался по мере приближения к залу религиозного искусства, и так же усилилось почему-то сердцебиение Николая Григорьевича. "Странно. Как перед экзаменом... Смешно". Он дернул головой и, почувствовав взгляд, оглянулся. На пороге стояла миловидная молодая женщина и, что сильно поразило Николая Григорьевича, модно и по столичному одетая.
- Добрый день, - спокойно сказала она, склонив на бок голову с аккуратно собранными назад светлыми волосами.
Николай Григорьевич вдруг стушевался под ее прямым благожелательным взглядом, почувствовал свою сутулость, потертость пиджака, мятую рубашку и кривую, стоптанную от многолетнего ношения обувь.
- Здравствуйте, - ответил он и почему-то дернул головой, как лицеист.
- Вы впервые в нашем музее?
Женщина подошла ближе и мягко посмотрела на него. Глаза у нее оказались большими, миндалевидными и почти черными. Николай Григорьевич растерялся - так нежно на него никто не смотрел. "Впрочем, я сам себе внушил".
- Собственно говоря, нет. Я, когда забрасывает сюда командировка, всегда заглядываю сюда.
- Для нашего музея любой визит большое событие. Спасибо за внимание к нашим коллекциям.
- Да, - спохватилась она и протянула руку, - я не представилась. Младший научный сотрудник Марина Ковалевская.
- Николай Григорьевич Бессмыслов. Из Москвы, - он удивился ее крепкому рукопожатию.
- Я вижу, вы уже многое успели посмотреть... - Марина развернулась на каблучках и, подойдя к окну, удивленно вскрикнула, - дождь пошел!
Марина открыла форточку, и сразу посвежело. Где-то прокатился гром, и солнце закрылось облаками. Зал погрузился в темноту.
- Простите, я засмотрелась, - повернулась Марина к нему, - люблю дождь.
- Нет, ничего... А вы здесь недавно?
Марина пошла куда-то, исчезнув в сумраке залы; Николай Григорьевич услышал звук выключателя, и мертвенный свет неоновых ламп оголил помещение.
- Да, я училась в Суриковском на искусствоведческом факультете, и после окончания приехала сюда. - Марина вернулась и посмотрела на выражение лица Николая Григорьевича и спросила, - вас это удивляет?
- Честно говоря, да, - Николай Григорьевич поболтал в воздухе рукой, не находя слов.
- Была в столице, а вернулась в захолустье, - усмехнулась она. - Мне многие говорили об этом... Но я здесь родилась, здесь училась. Здесь мои предки, моя душа, моя жизнь. Для вас, я вижу, это старомодно, но это так.
"Это так. Это старомодно. Душа для того, чтобы в нее плевали. Боже, что я думаю. Какая чушь, я просто схожу с ума".
Марина задала ему вопрос, и он растеряно взглянул на нее:
- Простите, не уловил.
- Как вам наше собрание икон? Хотите, я для вас проведу экскурсию?
- Спасибо.
Марина пошла в угол залы:
- Пройдите сюда. Вы наверняка эту икону, если и видели, то не задумывались над ней. Большинство смотрит, но не видит...
Он пошел за ней, на ходу отмечая безукоризненную линию бедер и красивых длинных ног. "Как она здесь оказалась? Среди этих старух? В этом унылом Угробинске, где проезжает по главной улице имени Дзержинского одна машина в день. Где два магазина и гипсовый Ильич в фальшивой бронзе".
- Посмотрите, - Марина обратила его внимание на одну из икон, - эта икона очень редкая. Казанская Божья Матерь.
Николай Григорьевич молчал - он видел старую треснувшую доску, на которой смутно вырисовывался канонический силуэт Богоматери.
- У нее лицо, - продолжала Марина, - как у простой крепостной женщины, такие простонародные лики никогда не писали, глаза потемнели от будущих скорбных переживаний. А взгляните на ее руки. Это руки не Богоматери, а крестьянки, которая наравне с мужем несет тяжесть оброка.
- Да..., - торопливо поддакнул он.
"И как Марина одета. Неужели здесь можно так одеваться? Такие вещи можно купить только в Москве! Ей кто-то привозит?"
- Вы верите в Бога?
- Я? - Николай Григорьевич смешался под ее серьезным взглядом и посмотрел на другую икону.
"Святой пророк Даниил... Я ничего о нем не знаю..."
- Мне трудно сказать. Мне никто не задавал такого вопроса. Ведь сейчас это считается само собой разумеющимся.
Марина промолчала и отошла к окну. По стеклу разветвленными дорожками бежали дождевые капли. В подъезде дома, напротив, под крыльцом, спрятались редкие прохожие. Вода заливала дорогу, и проезжающие машины поднимали по своим блестящим бокам веер брызг.
- Одно дело признавать существование Бога и совсем другое - в него верить, - Марина подошла к раскрытой форточке и закрыла ее.
- "Вера не требует доказательств".
- Вы что-то сказали? - Марина обернулась к нему.
"Я уже разговариваю сам с собой..."
- Я сказал, что вера не требует доказательств, а у меня такой веры нет, - Николай Григорьевич грустно улыбнулся, - не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, я агностик.
- А я верю... Простите, что залезла в такие сферы. Меня всегда туда заносит.
- Нет-нет, что вы. Это даже интересно.
- Да, интересно? Неужели кто-то здесь еще способен говорить о Боге?
- Я не к этому, - Николай Григорьевич спрятал руки в карманах старого пиджака, - напрасно вы думаете, что все столичные так плохо относятся к провинции.
- Я знаю, что говорю, - Марина скрестила руки на груди, - но к вам, как вижу, это не относится.
"Относится. И я из таких. Я всегда стараюсь быть снисходительным к провинциалам. Они всегда вызывают у меня какую-то странную жалость, словно недоразвитые дети. Своего рода инвалиды".
- Спасибо за доверие, - Николай Григорьевич оглянулся, - у вас вообще бывают посетители? Я никогда никого не вижу.
- Бывают, - усмехнулась Марина, - экскурсии заказывает школа. Довольно часто приходят в этот зал прихожане Ильинской церкви. У них год назад открылась воскресная православная школа...
Марина помолчала, обозревая стройный ряд икон.
- Я вообще-то считаю, что все эти иконы нужно отдать им, в церковь! Иконы здесь мертвы!
"Мертвы... Как она резка в своих суждениях".
- Почему вы так считаете, - спросил он.
Марина прошлась по залу и остановилась возле большой иконы, изображающей Троицу:
- Вы были в Третьяковской?
- Был, но давно.
Николай Григорьевич подошел к ней. Он чувствовал в себе потребность стоять возле нее - словно входил в какой-то живительный круг.
- Вы видели иконы Феофана Грека, Рублева?
- Да.
"Как она странно смотрит. И глаза блестят".
- Представьте те иконы в церкви, при мерцании свечей. Все краски сразу заиграют. И багрянец, и золото. Зыбкий, неверный, но живой свет свечей, и икона начинает жить, она начинает отдавать тепло. Иконы для того и писали, чтобы они отдавали свет и благодать.
"Похоже, религиозная фанатичка".
- Только не подумайте, что я ненормальная, - Марина засмеялась.
"Она что - читает мысли?".
- Пойдемте, я вас угощу кофе. Все равно в такой ливень вы никуда не пойдете.
Марина пошла к выходу из залы и выключила свет. Внезапно все изменилось. Высокие окна образовывали мягкие прямоугольники света на старом паркетном полу залы. Стекающая по стеклам вода, отражаясь на полу, сплетала странные узоры. Сверкнула молния, на мгновение, словно магниевая вспышка, осветив стоящую возле дальнего окна Марину. Ее лицо было словно обращено с мольбой к этому переменчивому свету. Марина не казалась бледной, напротив, на щеках играл лихорадочный румянец, губы приоткрылись и словно что-то просили.
"А она очень красивая..."
Николай Григорьевич пригладил свои волосы, потер подбородок и похолодел. "Я забыл побриться. Остолоп! Неряха! Алкоголик!"
Он почувствовал, как лицо его начало гореть. Ему стало стыдно и противно. Он понял, что опустился и давно этого не замечает, что стал само собой разумеющимся носить не глаженные брюки и несвежую рубашку. Ему захотелось превратиться в мышь и исчезнуть навсегда.
- Пойдемте, - Марина поправила сумочку на плече и улыбнулась ему, - я вас угощу необыкновенным кофе.
- Не стоит, право, я и так отнял у вас время, - Николай Григорьевич машинально снова потер подбородок.
"Черт бы побрал!".
- Какое время? - изумилась Марина, - вы же видите, что никого нет! А кофе я сама хочу выпить. Но не одна.
Марина игриво улыбнулась, вздернув подбородком.
Кабинет, куда они пришли, минуя узкий коридорчик и поднявшись по чугунной винтовой лестнице, оказался небольшим и очень уютным. Чувствовалось, что Марина постаралась казенную комнату сделать приятной для сосредоточенной работы и приема гостей. "Вроде меня", усмехнулся Николай Григорьевич.
На стенах кабинета висели голландские натюрморты в пышных золоченых рамах. Из огромных, с темными трещинами, фарфоровых ваз торчали рулоны плакатов и афиш. Темно-бордовые портьеры обрамляли высокое окно и создавали ощущение тепла.
Марина включила в сеть небольшой кофейник, предложила Николаю Григорьевичу старинное кресло возле круглого стола и поставила на стол пепельницу.
- Вы ведь курите, - утвердительно сказала она. - К сожалению, я тоже пристрастилась. Еще в Москве.
Марина села в другое кресло и раскрыла старинный портсигар:
- Это портсигар моего деда. Я совершенно случайно нашла его в нашем сарае в бабушкином сундуке. Замечательный портсигар.
Николай Григорьевич поднес зажигалку Марине, она прикурила:
- Спасибо. Кстати, портсигар серебряный.
"На что она намекает? Ну конечно, я же на вора похож".
- Простите, что небрит, - Николай Григорьевич опять потер подбородок и развел руки, - я совсем...
Марина махнула рукой:
- Сегодня это простительно.
Николай Григорьевич недоуменно посмотрел на нее.
- Сегодня же суббота, значит, выходной, - пояснила Марина, - так что будем считать это маленьким простительным послаблением.
- Скажите, Марина, а вы что, всех кофе угощаете?
Марина рассмеялась, встала и подошла к кофейнику. Открыла его, что-то в него бросила и, закрывая его, ответила:
- Нет. Только москвичей.
- Вы шутите?
- Почему же? - она перестала улыбаться. - Я действительно угощаю москвичей кофе.
Сигарета у Марины уже погасла, и ей пришлось снова зажечь ее. Сделав две затяжки, она продолжила:
- Вы, москвичи, к сожалению, редкие гости не то что в музее, но и в городе. Хотя доехать до него электричкой с Казанского вокзала всего четыре часа. А я, не забывайте, пожалуйста, около шести лет прожила в Москве. Этого достаточно для того, чтобы полюбить и город, и людей. И потом, мне как-то жалко москвичей, забредающих в наш забытый край.
"Теперь она жалеет. Невероятно".
- Они такие здесь потерянные. Многого не понимают, боятся. Весь их столичный апломб уходит в песок. Я бы сказала - они такие ранимые в своем незнании.
- Это вы уж слишком, - заметил Николай Григорьевич.
- Вот-вот, - словно обрадовалась Марина, - вы уже обиделись. Поэтому я вас и угощаю. И все вы забудете.
Кофе действительно было превосходным. Какой-то терпкий, перцовый привкус добавки, густая охристая пена. Николай Григорьевич вдруг почувствовал покой и странную отрешенность. "Это, видимо, и называется умиротворением. Когда ни о чем не хочется думать, а только пить кофе и смотреть на нее"...
2.
Когда он пришел к себе в гостиницу, номер сразу показался ему унылым и холодным. Вещи были раскиданы, как попало, и производили впечатление брошенных и никому ненужных. Николай Григорьевич прошел в ванную, на ходу сбросив пиджак, и посмотрел на себя в зеркало. "Вы мне понравились глазами", - откровенно пояснила ему Марина. Он курил, стараясь не просыпать пепел на колени, и молчал. Опять молчал. "Вам никто не говорил, что у вас необыкновенно красивые глаза?" - Марина отпила кофе, а Николай Григорьевич не мог понять, улыбается ли она. "Боюсь, что никто мне этого не говорил. Все говорили, что я душка, что я прелесть, что покладист и со спокойным характером. Про глаза никто не говорил". "Они у вас серые. Это притягательный цвет". "Смотря для кого", - вырвалось у него. Марина промолчала.
Потом она захотела снова закурить, а ее зажигалка испортилась. Он поднес свою, она обняла его ладони и, прикурив, сказала: "Какие у вас теплые руки". "Теплые, - подумал он, - надо же, мои руки могут кого-то согревать".
Николай Григорьевич взял тюбик крема для бритья, потом передумал и, закрыв сливное отверстие ванны пробкой, пустил горячую воду. Сильная струя стала наполнять ванную. "Глаза. Серые глаза. Ничего особенного". Николай Григорьевич смотрел на свое отражение и чем дольше смотрел, тем больше ему казалось, что смотрит он на чужого человека. "А может, это Он на меня смотрит, а не я на Него...".
Выходя из музея, он вдруг очень сильно, что его самого испугало и удивило, захотел предложить ей встретиться на следующий день. Следующим днем было воскресенье, а к Мефодию Ильичу идти расхотелось. Николай Григорьевич хотел быть рядом с Мариной. Но он постеснялся сидящей в кресле надменной лысой старухи и, пробормотав "Спасибо", пожал Марине руку. Она улыбнулась и, видимо, догадалась о его смятении. "Догадалась. Она же мысли читает".
Ванная прогрелась, и Николай Григорьевич, притащив в ванную стул, поставил на него коньяк, стакан и сигареты. Потом он погрузился в горячую воду и, нежась, укутываясь теплом пара, смотрел на пожелтевший от времени кафель и пытался мокрыми пальцами открыть пробку коньяка. Наконец, это ему удалось, и Николай Григорьевич жадно хлебнул его прямо из горлышка. Сразу обожгло желудок. "Я же ничего не ел". Он взял полотенце, вытер руки и зажег сигарету. "Стюардесса". "Лена не выносит "Стюардессы". При чем тут Лена?" Николай Григорьевич опять отпил коньяк, теперь уже из стакана. "Дубина! И все твоя проклятая стеснительность. И завтра весь день насмарку. У этого Мефодия с кислыми щами, картошкой в мундире и вечной "Русской" водкой. И перед этим стоять в его убогой домашней молельне перед сотней фабричных икон с десятками лампад и слушать его заунывное "Господи, поми-илу-уй!" Дубина!". Николай Григорьевич посмотрел на часы. Еще время и музей должен работать. Можно позвонить. Нужно! "Ч-черт, быстрее!" Он вскочил и вода, заволновавшись, несколько раз выплеснулась на пол, отчего теперь он шлепал на первый этаж в мокрых туфлях.
Справочная долго не отвечала. Когда трубку подняли, то Николай Григорьевич услышал заспанный голос телефонистки. Он торопливо попросил дать ему номер музея.
- Алло, это Марина?
- Да, это я, Николай Григорьевич, как дошли?
- Нормально.
"Как ей это сказать? Чтобы не показаться навязчивым".
- Алло, Николай Григорьевич, вы на проводе?
- Да-да, - спохватился Николай Григорьевич и покосился на пенсионера за стойкой портье.
Портье-пенсионер, борода лопатой и густые брови над землистыми глазками, читал "Правду" и, казалось Николаю Григорьевичу, прислушивается к разговору. От вида неподвижного портье Николай Григорьевич сильно нервничал.
- Вы знаете, Марина... Вы завтра свободны?
- Не совсем, а что?
"Ну конечно, у нее есть муж, семья. Как глупо и пошло".
- Мы не могли бы завтра встретиться?
"Ну, а дальше что?"
Марина долго молчала, и, наконец, ответила:
- Вас устроит завтра в двенадцать у музея?
- Да-да, я очень рад.
- Я тоже.
Воцарилось молчание.
- Всего хорошего, Николай Григорьевич, - трубка загудела.
Пенсионер зашуршал газетой. "Слушал. Он без этого не может, кагэбэшный стукач". От мокрых туфлей у Николая Григорьевича мёрзли ноги, а желудок сигнализировал режущей болью.
- Где здесь можно поесть? - сухо обратился Николай Григорьевич к портье.
- А нигде, - тот аккуратно сложил газету и развернул "Рабочую трибуну", - столовых в нашем городе нет.
"Неужели опять идти к Мефодию".
Ванная уже остыла, когда он вернулся в номер, и желание погреться в ней исчезло.
Николай Григорьевич со стаканом коньяка в одной руке, с дымящейся сигаретой в другой, подошел к окну. Частые капли дождя гулко барабанили по стеклу.
3.
Николай Григорьевич целовал Марину в нежный сгиб локтя и чувствовал, как ее пальцы гладят его шею. Потом Марина сжала его плечи и выдохнула: "Я тебя люблю". Ее голова откинулась, рот приоткрылся, и он поцеловал ее в губы. Что-то смущало его, а он не мог понять - что? Ему было неудобно на краю жесткой гостиничной кровати.
Вдруг он услышал знакомый визгливый голос: "Николай. Повернись".
Марина расстегивала ему рубашку, а он зарылся лицом в ее волнистые, отливающие золотом волосы.
"Повернись. Повернись".
Марина не отпускала его. В ее глазах таилась бездна, и эта бездна казалась ему спасением...
"Повернись. Повернись".
"Я люблю тебя. А ты?", - шептала Марина, заглядывая в его глаза. Он бормотал в ответ: "Люблю, люблю...". "Навсегда?". "Навсегда. Да, люблю навсегда". Марина тихо смеялась.
"Повернись. Повернись". Внезапно Марина замолчала и, закрыв глаза, оттолкнула его от себя. Падая, он зацепился за тумбочку, и сверху на него полетели бумаги. Какие-то бумаги, которых в номере не было. Странные бумаги.
"Повернись!
Он повернул тяжелую голову и увидел Лену. Она сидела в кресле, на лице были старые очки-велосипед. Возле нее стоял коричневый чемодан на колесиках. "Я ухожу", - сказала Лена и открыла сумочку. "Что такое? Как ты меня нашла?", - силился спросить Николай Григорьевич и не мог. Бумаги все падали и падали, как последний снег. Они покрыли его точно саваном; они залепили ему рот; они падали на глаза и он едва успевал их отбрасывать с лица. "Я устала ждать", - Лена бросила ему конверт. "Что это?". Конверт скрылся в общем потоке падающих бумаг.
Мимо прошла Марина, застегивая на ходу блузку. "Марина!". Марина подошла к окну и отворила скрипучие створки. В номер ворвался ветер - бумаги заметались по номеру, как стая обезумевших чаек. Листы падали, снова поднимались, сталкивались друг с другом, вырывались на свободу и исчезали в густом мраке ночи.
"Конверт!" - крикнула Лена.
"Марина!" - Николай Григорьевич понял, что не хочет терять ее. Ему невыносима сама мысль об этом. "Марина!", - снова крикнул он.
Лена толкнула чемодан и он, поскрипывая колесиками, покатился перед ней: "Прощай...".
Внезапно номер опустел. На полу лежал конверт. Николай Григорьевич приподнялся - что-то переливчатым колокольчиком звенело в затылке. Конверт оказался пустым... Ворвавшийся в номер ветер выхватил конверт из рук и унес с собой в открытое окно.
4.
Когда Николай Григорьевич открыл глаза, то не сразу сообразил, где находится. В затылке что-то продолжало звенеть колокольчиком, во рту горчило. Повернув голову, Николай Григорьевич увидел возле своих глаз родной башмак, а у стены лежал граненый стакан. Николай Григорьевич сообразил, что лежит на полу, и через мгновение рывком попытался подняться. Не удалось, и он, потеряв равновесие, рухнул вниз. Падая, он успел заметить пустую бутылку из-под коньяка на столе и полную окурков пепельницу. "И когда же я успел столько выпить?". Николай Григорьевич погрузился во мрак.
Марина посмотрела на часы. Пять минут первого. Марина еще раз огляделась в поисках Николая Григорьевича и подошла к скамейке под старым дубом. Закурила, спичку бросила вниз и вдавила в гравий подошвой. Села. И вздрогнула. Знакомый голос сзади произнес:
- Добрый день, Марина. И прошу извинить за опоздание.
Она оглянулась - Николай Григорьевич смущенно протягивал ей букет из опавших листьев. Лицо его было бледным, мешки под воспаленными глазами, впалые щеки. Заметив ее взгляд, он покраснел.
- Спасибо.
Николай Григорьевич обошел скамейку и сел рядом.
- Я, между прочим, знала, что вы придете. Опоздаете, но придете, - Марина повертела букетик в руках и добавила, - вам плохо?
- Нет, почему же? - пожал плечами Николай Григорьевич, пряча глаза, - нет. Я просто плохо спал.
Марина отвела взгляд от лица, где заметила порез на щеке. "Поняла, что я был пьян. Наспех трезвел, спешил, скверно брился".
- Вы наверняка голодны, - Марина отбросила за спину недокуренную сигарету и нетерпеливо похлопала ладонями по сумке, - здесь неподалеку есть уютное кафе.
- Спасибо. Я уже пил кофе.
- Все равно. Тем более что я хочу подкрепиться, - Марина легко коснулась его локтя, - а там симпатичные рогалики и тихая музыка.
В кафе, кроме них, сидело еще три человека за соседним столиком. Из старого магнитофона на барной стойке струилась негромкая музыка. Пахло сдобой и натуральным жареным кофе.
Николай Григорьевич обнял ладонями чашку с горячим кофе. Марина, надкусив рогалик, смотрела на него, отчего Николай Григорьевич смущался. Ему захотелось вдруг стать красивым, ловким, галантным. Ему захотелось петь, танцевать и читать стихи. "Какие стихи?" - лихорадочно подумал он, - "быстрее вспомни". Он еще крепче сжал чашечку и, тихо вскрикнув, отдернул руки.
Марина засмеялась:
- Вы сегодня какой-то странный. Честное слово.
Николай Григорьевич улыбнулся и посмотрел на стойку бара. Там, в круге верхнего света, стояла ярко крашенная блондинка.
Вблизи она оказалась старше, чем думал Николай Григорьевич. Он заказал шампанское, барменша величественно проплыла в подсобку, принесла бутылку, шепнув "такое шампанское только для Марины", и медленно посчитала деньги.
- Что это, - Марина растерялась, когда Николай Григорьевич подошел с шампанским к столику, - зачем это?
- Я хочу выпить за наше знакомство, - Николай Григорьевич снимал с горлышка фольгу.
- Но зачем, - оглядываясь по сторонам, Марина наклонилась к нему, - зачем такие траты?
Николай Григорьевич поднес палец к губам, призывая молчать, и разлил вино по стаканам.
- Спасибо, - выдохнула Марина и, покачав недоуменно головой, взяла свой стакан.
- За знакомство, - словно спросил у нее Николай Григорьевич и протянул ей свой стакан. И вдруг начал:
- Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, -
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне - отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.
Марина уже иначе посмотрела на него, в ее глазах появился новый интерес, но она быстро улыбнулась и чокнулась с ним.
- Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.
Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.
Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: "Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба".
"Шагни, и еще раз", - твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти...
- Спасибо, мне никто стихов не читал, - не глядя на него, сказала Марина.
Она смотрела в окно, и в глазах была странная тоска.
- Ни сирени, - пробормотала она, - ни нагретых деревьев, ни тем более, страсти.
Они молча снова закурили. Марина смотрела на него, сощурив глаза, всматриваясь, словно изучая, но Николай Григорьевич уже не смущался.
- А другое стихотворение можете прочитать? - попросила Марина, - у вас красивый голос. Приятно...
"Уже голос красивый. Да я прям классический обольститель", качнул головой Николай Григорьевич.
- Пожалуйста. Но только не считайте меня великим знатоком поэзии.
- Да что вы, пожалуйста.
- Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете,-
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы,-
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я "богаче всех в Египте",
Как говаривал Кузмин покойный...
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой.
И я стала всех сильней на свете,
Так, что даже это мне не трудно.
- Спасибо, - быстро прервала его Марина и поболтала ложкой в чашке, - спасибо. Я не ожидала от вас...
- Боюсь, что умею только это, - развел руками Николай Григорьевич.
За соседним столиком громко заспорили, разглядывая пустую кофейную чашку со следами кофе на стенках. Мужчина в больших некрасивых очках трясся от беззвучного смеха. Марина оглянулась и махнула приветственно рукой высокой женщине, державшей в руках чашку. Та улыбнулась ей и продолжила толкование узоров.
- Хотите погадать? Это моя знакомая.
- Нет, - поспешно ответил Николай Григорьевич.
- Вы боитесь судьбы?
Николай Григорьевич молча разлил новую порцию шампанского и ответил вопросом:
- Что это мне даст?
Блеснул портсигар - Марина достала еще сигарету:
- Большинство людей стремится предугадать свой следующий шаг, если не жизнь, - она закурила. - Я, знаете ли, люблю гадать, хотя сознаю, что это грех. И говорить так нельзя, как я сейчас сказала - "люблю гадать". Ужасно. Но запретный плод сладок.
- Скажите, Марина, вы действительно верите в Бога?
Марина отгородилась от него завесой дыма:
- Когда на судьбу выпадает много испытаний, так или иначе начинаешь в него верить... В Бога просто захочешь поверить. От безысходности.
Марина отогнала дым. Николай Григорьевич чувствуя, что она хочет сказать еще что-то, ждал.
- Посмотрите вокруг. Не кажется ли вам иногда, что слишком много зла окружает нас. Возникает ощущение, что оно всесильно и несокрушимо... О, впрочем, как литературно я заговорила!
Марина недовольно покачала головой и, допив кофе, громко стукнула чашкой о блюдце.
- Я тоже знаю стихотворение. Одно и самое любимое. Хотите?
- Конечно.
- Тогда слушайте:
Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет - мелкой...
Марина читала высоким голосом, чуть подпевая себе, и смотрела прямо перед собой. Николай Григорьевич похолодел от непривычной жесткости ее всегда мягкой и тихой речи. Ее лицо побледнело, а глаза были раскрыты широко, и в них дрожала влага.
- Миска - плоской.
Через край - и мимо
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо...
Марина стряхнула пепел и посмотрела на Николая Григорьевича:
- Вот так.
- Но это не конец, - возразил он.
- Конец, - возразила Марина, - другого быть не может.
"Невосстановимо хлещет стих",- хотел завершить Николай Григорьевич, но понял, что этого делать не следует.
- Вы любите Цветаеву?
- А что еще делать? - пожала плечами Марина, - тезка все же. Но это несерьезно. Я действительно люблю Марину. Знаете, она написала однажды такие слова, кстати, Пастернаку: "Мой отрыв от жизни становится все непоправимей". Заметили у нее обилие "не"?
"Странная она какая-то".
- Да, это заметно, - согласился он.
Вдруг Марина вскочила с места:
- Пойдемте в одно место?
- С удовольствием.
- Но это совсем не то, что вы можете подумать... Там вам грешить не дадут. Вы согласны пойти туда?
Марина засмеялась. Николай Григорьевич молчал.
- Не обижайтесь, это входит в мою программу с москвичами.
"Она смеется надо мной. Почему я вечно оказываюсь в дурацком положении".
- Что вы, я не в обиде, - холодно ответил он.
- Вы обиделись, - проницательно заметила Марина, - а зря. Я хочу показать вам Ильинскую церковь.
"Зачем мне эта церковь? Для чего? Что она хочет мне этим доказать? Свою набожность, эрудированность и непогрешимость? Странно. Впрочем, какое это имеет значение".
- Я не против, - после минутного молчания сказал Николай Григорьевич и попытался улыбнуться. Улыбка не удалась.
Когда они подходили к небольшой деревянной церквушке, местами недавно подновленной - желтело свежее дерево, Николай Григорьевич внезапно спросил:
- Вы замужем?
Марина молчала.
- Простите, если обидел.
- Я была, - перед входом в церковь Марина достала из сумочки легкий шарфик и покрыла им голову.
"Как странно ее видеть такой. Как-то по бабьи. Зачем все это?"
Марина обернулась к нему на ступеньках паперти:
- И об этом не люблю вспоминать.
- Понятно, простите еще раз.
Николай Григорьевич покраснел и вошел за нею во мрак храма. Марина словно забыла о нем. Николай Григорьевич остался стоять у дверей, пока глаза привыкали к полутьме с зыбкими оазисами огоньков под тусклыми от копоти и времени иконами. Марина положила милостыню высокому старику, сидящему на стульчике возле дверей и о чем-то с ним долго, мирно говорила. Людей оказалось немного - только шустренькие бабушки в беленьких платочках, да дети, пытавшиеся тихо сидеть на лавочках вдоль стен.
И вдруг, казалось, уплывшее в небытие, воспоминание свежо и ясно промчалось перед Николаем Григорьевичем.
Его сдавили со всех сторон, и он не знал, куда ему спрятаться от этих, внезапно ставших страшными и ненавистными, людей. С неистовством в затуманенных глазах. Главное, и это пока удерживало его от желания заплеваться и броситься прочь, была мама. Она стояла недалеко от него в своей желтой косынке, с пустой склянкой из-под молока и, в отличие от этих страшных людей, не кричала, не шептала что-то безумное. Она стояла, едва удерживая равновесие от сильных толчков скопившихся людей и все что-то хрипевших с лихорадкой в глазах.
Внезапно Коля понял, что мать его не видит, и она даже не знает, где он здесь. Открытие потрясло: "Она такая же, как и они! Страшная! Чужая!". И ему захотелось уйти, оторваться от этих странных существ, внушающих ему с каждой секундой физическое отвращение.
Прямо перед ним служки поставили большой серебряный чан, к которому торопливо подплыл круглый священник, словно из воздуха выудивший огромное серебряное распятие...
Духота и жара августовского лета, казалось, проникла и сюда, в храм, отчего вся реальность происходящего стала походить на кошмарный сон. Резкий запах немытых тел и сопревшей одежды, дурной запах из открытых глоток висел в воздухе и пропитывал собою все.
Коля ничего не понимал из происходящего - он не понимал смысла произносимой скороговоркой молитвы, для чего этот чан, почему люди вдруг стали страшными и безобразными, он не хотел понять, почему его забыла мать.
Внезапно священник замолчал, захлопнул какую-то книгу в серебристом переплете и в наступившей тишине с громким плеском погрузил распятие в воду. Толпа колыхнулась - словно какая-то волна тяжело прокатилась по ней. Николай кожей ощутил свою инородность от этой массы, которая неумолимо и твердо росла над ним.
Священник взмахнул распятием, и целый дождь обрушился на толпу, сначала подавшуюся вперед, словно в предвкушении какого-то мига, а затем успокоившуюся, как только первые капли упали на разгоряченные потные лица. Всплеск - снова распятие в воде и священник поднес его к губам стоящих впереди людей. Николай видел, как сухие, растрескавшиеся губы с громким чмоканьем хватали распятие. Священник совершал эту процедуру ловко и быстро, постепенно подходя к Николаю, который вдруг ощутил непонятный ужас перед приближающимся распятием, захватанным грязными ртами. Он почувствовал на своих плечах чужие, потные руки, отталкивающие его. Он ждал, уставившись взглядом в каменный пол, страшной минуты и видя перед собой, как в замедленном кино, один и тот же кадр: его мать подалась вперед, и когда распятие поднялось до нее, поцеловала его и перекрестилась, склонив голову.
Внезапно чьи-то мужские руки, давно лежащие на его плечах, сжали его с силой, и он очнулся - распятие парило перед ним. Время словно остановило свой бег. Николаю показалось, что вся многоглазая тысячеротая тяжелая масса видит его, смотрит на него и ждет от него, и требует, чтобы он тоже прикоснулся к этому кресту. Распятие вопрошающе и нетерпеливо дернулось, и Николай помотал головой. Распятие поднялось вверх, и мужские руки ослабили свою железную хватку, и Николай легко был задвинут в толпу, где он желал только одного - быстрее выбраться из едких, кислых, смрадных испарений обезумевшей массы.
Он вылез, проталкивая себе дорогу локтями, и на пороге храма, повернувшись к толпе, несколько раз демонстративно сплюнул. Он отплевал все свое отвращение, брезгливость и презрение к отупевшей людской массе. За порог его вытолкала какая-то бабка, обрушившая сверху поток брани, но Николай был удивительно спокоен...
Щедрая зелень платанов шумела на ветру, голуби клевали брошенный хлеб, а через дорогу, загораживая море, алел трафаретный Ленин на фоне огромной аббревиатуры: КПСС.
- Возьмите свечи, Николай Григорьевич... Пойдемте.
От спокойного шепота Николай Григорьевич очнулся, и волна забытого отвращения чуть не захлестнула его, но он остановил себя: "Успокойся", и пошел за Мариной, чувствуя, как плохой стеарин оставляет свои следы на ладони. Он шел за ней и пытался вспомнить, сколько тогда было ему лет. Он был пионером, да, он той весной стал пионером и очень гордился этим. Ему было девять лет.
Марина перекрестилась и пошла к следующей иконе.
Когда они, после церкви, сидели на лавочке под навесом, Марина прошептала:
- Хотите знать, как раньше писали иконы?
- Интересно, - кивнул головой Николай Григорьевич, искоса наблюдая за нею.
- Иконописец уходил в сорокадневный пост и молитву, чтобы достичь духовного просветления. И только после этого приступал к иконе. Начинал он сначала со скелета будущего святого, который постепенно, день за днем, как бы оживляя, покрывал мышцами и кожей, и потом...
Николай Григорьевич курил, вполуха слушал Марину и думал, смог ли бы он переехать в этот городок с жутковатым названием Угробинск. Переехать и жить в нем с Мариной. Все равно Лена уйдет, так же как Оля. К дочке она его вряд ли подпустит, в отличие от Оли, впрочем, это его сейчас не волновало. Ему было так тихо, так покойно с Мариной, что он готов был бросить в Москве все, включая трехкомнатную квартиру, подаренную ему ныне покойной матерью. Квартира все равно уже давно стало ему чужой.
- Вам неинтересно, - заметила его состояние Марина.
- Что вы, Марина, интересно очень, я вас внимательно слушаю, - он взял ее за запястье, она не сопротивлялась, перевернул ладонь, разглядывая узоры.
- Что вы здесь видите? - вдруг строго спросила Марина, а темные глаза лихорадочно забегали по его лицу.
Николай Григорьевич поднял брови, рассматривая линии маленькой ладони, заметил бугорки мозолей у основания пальцев. Он воспринимал происходящее как игру и пытался соответствовать роли опытного хироманта. Поднял ладонь к своему лицу, улавливая какой-то аромат, и уточнил: "Лавандовое масло". Марина молча кивнула.
- Выйдете замуж, - хитро улыбнулся он.
Марина молчала.
- Выйдете замуж, - повторил Николай Григорьевич, - второй и последний раз.
Марина молчала.
- Родите ребенка.
- Уже есть, - выдохнула она, - другого не надо.
Николай Григорьевич пожал плечами:
- Не я говорю, а ваша ладонь.
- Да-да, простите, - стушевалась Марина и посмотрела в конец аллеи.
- Вы, Марина, любвеобильны и легко увлекаетесь мужчинами.
Николай Григорьевич заметил, что его пустая болтовня тяготит Марину, она неотрывно смотрела в конец аллеи, словно кого-то ждала.
- Ну, - закрыл ладонь Николай Григорьевич и бодро сказал, - и проживете до 80 лет!
Она ничего не ответила. Долго доставала портсигар, долго доставала сигарету, потом неторопливо закурила. Посмотрела на церковь через дорогу и вдруг сказала:
- Мне предстоит смерть. Скорая смерть.
- Да что ты, - вдруг вырвалось у Николая Григорьевича, - какая смерть?
- Смерть возможна, - грустно улыбнулась Марина и почему-то ему подмигнула, - мы перешли на "ты"?
- Извините, если что...
- Да нет, что ты, так лучше, но что даст нам с тобой эта формальность, - Марина отвернулась от него и снова посмотрела в конец аллеи.
По аллее шла пожилая женщина и толкала впереди себя инвалидную коляску. Кто сидел в коляске, Николай Григорьевич не видел, но ему показалось, что ребенок.
- Да, - вздохнула Марина, - так вот, вернусь к написанию икон.
- Да-да, - торопливо подтвердил свой интерес Николай Григорьевич, - ты сказала, что потом художники покрывали скелеты кожей. Верно?
- Верно, - засмеялась Марина и прижалась к нему.
Николай Григорьевич закрыл глаза, ощущая ее тепло и пытаясь это тепло сохранить в себе как можно дольше. Он наклонил голову и вдохнул запах ее волос. "Ромашка".
- Так вот, иконописец покрывал скелет мышцами, кожей, а потом уже рисовал образ святого. Это удивительная техника письма, почти что воскрешение святого из праха, ныне пренебрегается современными художниками. Они даже не постятся. И уж тем более не молятся. Поэтому их иконы - это всего лишь бездушный товар, - шептала Марина, не отрывая взгляда от инвалидной коляски, приближающейся к ним.
- М-да, я этого не знал, - признался Николай Григорьевич и снова взял Марину за руку.
- Хотите опять нагадать долгую жизнь? - руки Марина не отняла.
- Зачем же, это все чепуха, - пожал он плечами, - мне просто приятно держать твою руку.
- А мне, - Марина замолчала, - мне почему-то с тобой очень хорошо. Такого ощущения давно у меня не было. Надо ловить такие моменты жизни. Они недолговечны и так редки.
- Марина, - вдруг начал Николай Григорьевич, - ты необыкновенная женщина. Мне с тобой хорошо, приятно, тепло. Я давно не испытывал такого чувства... "Боже, какую банальность я пру".
Марина молчала, опять склонив свою аккуратную голову набок.
- Да, - тихо сказала она, - надеюсь, ты не каждой женщине читаешь стихи про сирень и страсть?
- Марина, не считай меня..., ну не знаю кем, но я хотел бы жить с тобой. Считай, что это мое предложение руки и сердца.
- О, как скоро! - вплеснула руками Марина.
- Но время же уходит! - крикнул Николай Григорьевич.
Он вдруг вспомнил сон, злую Лену в круглых очках и уходящую Марину.
- Какое время, - пожала плечами Марина и покраснела.
- Наше время! - Николай Григорьевич вытер лоб, - наше с тобой время. Нам не пятнадцать лет, чтобы еще пятнадцать выбросить на потеху жизни!
- Ты прав, - Марина погладила его по щеке, - но ты ведь женат, как я понимаю.
И показала на обручальное кольцо.
- Она все равно уйдет, я это знаю, - устало сказал Николай Григорьевич, - не уйдет она, уйду я. Всё уже кончено.
Он взглянул на кольцо и, сняв его с пальца, бросил за голову. Марина сильно удивилась, но промолчала.
Пожилая женщина с инвалидной коляской, в которой оказался мальчик лет девяти, поравнялись с ними. Марина обернулась к Николаю Григорьевичу:
- Познакомьтесь, это моя мама Полина Сергеевна и сынок Антон. Сокращенное от Антония.
Марина внимательно смотрела на Николая Григорьевича. Он привстал, улыбнулся Полине Сергеевне и протянул руку мальчику. У мальчика изредка подрагивала голова, а правый угол рта был скошен вниз. Антон не сразу подал ему руку, ему было трудно сделать такое простое действие. Николай Григорьевич терпеливо ждал - рука была как-то странно изломлена, и подал ее Антон запястьем вверх. Длинные гибкие пальцы то сжимались, то разжимались. Но рукопожатие оказалось сильным и твердым, а взгляд голубых глаз Антона прямым и жестким.
- А со мной гость из Москвы - Николай Григорьевич. Он частый, как оказалось, посетитель нашего музея. Вот сегодня в церковь сходили.
- Очень приятно, - мягко улыбнулась Полина Сергеевна и поправила выбившийся пучок седых волос из-под синего берета.
- Ненавижу москвичей, - вдруг, с трудом проговаривая слова, выпалил мальчик и отвернулся.
Марина успокаивающе похлопала сына по руке:
- Николай Григорьевич совершенно нетипичный москвич.
Мальчик исподлобья взглянул на него и вдруг снова протянул ему руку:
- Извините.
Они обменялись рукопожатием.
- Ну, вот и хорошо, - обрадовалась Марина, - вы прогуляйтесь, а мы еще посидим, ладно, мама. Антон, ты не против?
- Конечно, конечно, - женщина толкнула коляску, а Антон сделал короткий взмах рукой, не отводя строгого взгляда от Николая Григорьевича.
"Инвалид", мелькнуло в голове у него, "несчастный инвалид, себя таковым не считающий. Вот почему Марина такая верующая...".
- Ну, вот тебе я и моя семья, - обернулась к нему Марина и сложила на коленях руки.
Николай Григорьевич молчал и смотрел вслед коляске.
- Перейдем на "вы", Николай Григорьевич?
- Ну, зачем же так? - обиделся он и добавил, вздохнув, - бедный мальчик.
- Он не бедный, - агрессивно возразила Марина, - он парень с ограниченными возможностями! И очень много работает над собой!
- Извини, Марина, если не так выразился. Ради Бога, извини, - вырвалось у Николая Григорьевича, - я не имел в виду какую-то умственную неполноценность, а совсем другое.
- Ну, хорошо, - взяла себя в руки Марина, - во всяком случае, ты понравился Антону.
"На что она намекает", - похолодел Николай Григорьевич, - "сразу в загс? Но разве этого ты не хотел сам?".
- Чего-то испугался, - зорко глянула на него Марина, - а ведь я ничего не сказала.
- Нет-нет, все в порядке, - торопливо ответил он и потер мокрый лоб.
- Ну, как, - Марина снова кивнула ему с натянутой улыбкой и напомнила:
- "Я трясся. Я сделал сейчас предложенье,
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне - отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней".
- Хорошая память, - улыбнулся Николай Григорьевич.
Он снова посмотрел в конец аллеи - бабушка с усилием толкала инвалидную коляску, и громко скрипел гравий. Марина коснулась его руки:
- Ты поторопился, и вот тебе мой отказ.
- Нет, - вдруг вздохнул Николай Григорьевич и посмотрел на нее, - нет, мое предложение в силе. Марина, будьте моей женой.
- А что с Антоном? - строго спросила она.
- Ну и Антон с нами, - торопливо добавил Николай Григорьевич, - и мама твоя.
- Антон - одаренный мальчик...
- Я не возражаю...
- Он пишет картины, лепит, делает коллажи...
- Замечательно.
- Нет, - остановила его Марина, - я лучше тебе расскажу, чем он болен, чтобы ты лучше представлял себе будущую семейную жизнь. Нашу семейную жизнь. Мне, честно говоря, мужчина не нужен...
Марина строго взглянула на него.
- Мне нужен отец для сына. Бабье воспитание его портит.
- Я понимаю...
- Ничего ты не понимаешь, извини за резкость. Антон, если ты понял, болен ДЦП.
- ДЦП, - переспросил Николай Григорьевич.
- Да, он болен детским церебральным параличом!
Марина была очень серьезна и, отвернувшись от него, смотрела на церковь.
- Он был серьезно болен энцефалитом, что и дало такие осложнения. Умственно он здоров, но у него бывают эпилептические припадки. Это серьезно! Эпилептический припадок! И не один раз в жизни! Подумай! Одного желания жить со мной мало! К мужчинам я, повторяю, давно равнодушна и забыла, что такое оргазм. Я хожу в церковь и молю Бога о том, чтобы Он, если не может дать здоровья моему мальчику, хотя бы не оставил его одного.
- Но ты же рядом, - слабо возразил Николай Григорьевич.
- Я же сказала - я умру и скоро.
- Ах, - вырвалось у него, - к чему такой пессимизм! С чего ты взяла, что скоро умрешь! Скоро - это может через двадцать лет!
- Я знаю, смерть возможна! А скоро - это скоро! - с каким-то отчаянием крикнула Марина, - может, сегодня же! Лягу спать и не проснусь! Между прочим, хорошая смерть!
- Но почему ты все время говоришь о смерти! - вскочил Николай Григорьевич, - ты моложе меня, тебе двадцать девять лет, а говоришь такую чушь! Ты ходишь в церковь, куда ходят только умирающие и больные старики! Ты работаешь в мертвом музее среди мертвых старух и мертвых вещей, ценность которых сомнительна! Ты живешь в городе с чудовищным названием Угробинск! Тебе надо ехать отсюда и все будет по-другому! И вся твоя дурь о смерти пройдет!
- Тихо, Коля, пожалуйста, тихо, - попросила Марина и собрала волосы в красивый пучок.
Он смотрел на нее, такую резкую в отрицании своей жизни, такую бескомпромиссную и только удивился, насколько разные эти женщины, встретившиеся на его пути - Ольга, Лена и Марина.
- Но ведь это излечимо, - вяло предположил он, - если ты больна.
- Нет! Это неизлечимо! Это не болезнь!
Марина встала и посмотрела в его глаза:
- Это состояние души!
5.
Когда Николай Григорьевич приехал в Москву, дома его ждало письмо от Лены и пустые шкафы. "Спасибо хотя бы за письмо и оставленную квартиру",- подумал он и сел на кухонный табурет. Пустоты он не ощущал, скорее, долгожданную свободу. У него даже мелькнула мысль позвонить Сереге и закатиться в сауну с девочками. Вместо этого он позвонил в Угробинск.
- Да, - ответила Марина.
- Это я, - сказал он и замолчал.
Он держал в руках письмо Лены и не знал, что сказать.
- Коля, я слушаю тебя, - мягко сказала Марина.
- Марина, - выдавил он из себя, - я свободен.
- Поздравляю, - с сочувствием ответила она, - что дальше?
- Дальше? - он удивился такому прямому вопросу, - дальше... Переезжайте ко мне.
- Нет, - сразу ответила Марина, - это невозможно. Антон привык к Угробинску.
- Тем более привыкнет к Москве, - возразил Николай Григорьевич, - ему здесь будет лучше. Здесь мы найдем врача. Здесь есть общества...
- Общества инвалидов ему не нужны!
- Нет, Марина, у него будут другие общества. Но ты же не станешь отрицать, что Москва больше даст Антону, чем Угробинск. Ему уже девять лет, дальше - больше.
Марина молчала.
- Але! - крикнул Николай Григорьевич, не в силах выносить молчание, обступившее его со всех сторон.
- Хорошо, Коля, - тихо сказала Марина, - я подумаю и тебе позвоню вечером. Извини.
- Ладно. Я буду ждать.
Опять молчание, но Николай Григорьевич не смел бросить трубку...
- Коля, спасибо тебе, я ... Я тебя люблю, дорогой.
В трубке раздался плач и быстрые гудки.
6.
Антон управлял костылями, быстро передвигая ноги, так, что Николаю Григорьевичу приходилось торопиться за ним. Они шли по единственному кладбищу Угробинска. Возле свежей могилы с деревянным распятием они остановились. Табличка извещала, что здесь похоронена Марина Николаевна Ковалевская. Она прожила тридцать три года.
- Надо будет эпитафию написать, когда памятник сделаем, помнишь, папа, - Антон посмотрел на Николая Григорьевича.
- Да, сынок, - ответил тот, - "Смерть возможна - это состояние души".
- Да, верно, - согласился мальчик, - а бабушку рядом похороним?
- Разумеется, - кивнул головой Николай Григорьевич, - но она же еще живет.
- Рано или поздно она тоже умрет, - вздохнул Антон и сел на скамью, - к смерти надо готовиться. Как мама.
"Марина, - думал Николай Григорьевич и смотрел на фотографию, - Марина. Как мало мы с тобой прожили, но как долго. Спасибо тебе за все".
- Ну что, - Антон достал из рюкзачка водку, бутылку клюквенной воды и закуску, - помянем?
- Ну, давай.
Николай Григорьевич махнул рукой, хотя ему ничего не хотелось. Ему хотелось быть одному возле дорогой могилы. Но он и так уже три раза выезжал сюда из Москвы, ничего не говоря Антону и Полине Сергеевне.
- Да будет земля маме пухом, - сказал Антон и, смешно поморщившись, выпил клюквенный сок.
Николай Григорьевич ничего не сказал. Стакан водки стоял перед ним на столике, огурец лежал рядом на корке хлеба.
Каркали вороны, редкие прохожие шли по дороге к выходу. На могиле Марины росла молоденькая березка. "Дай Бог, чтобы выросла", - подумал Николай Григорьевич и положил руку на плечо Антону. Тот посмотрел на него и спросил:
- Ты любил мою маму?
- Да, твою маму я любил. И люблю.
2003
|